Жизнь и судьба печорина сочинение

Психологизм наблюдать невозможно. Все воинские приёмы, к которым я приноравливался во время скачек на этом поле, всегда были примером нападения на русских, а теперь я сам стою на нём русским офицером». Боже его избави от такого невежества!..
Печорин из «Княгини Лиговской» — человек непривлекательной внешности; портрет Печорина в «Герое нашего времени», при всей его противоречивости которая должна подчеркнуть демоничность , изображает красивого и знающего о своей красоте человека.
В «Княгине Лиговской», «чтоб немного скрасить его наружность во мнении строгих читателей», Лермонтов объявляет, что у родителей Печорина три тысячи душ крепостных; «Герой нашего времени» лишён такой иронии по отношению к герою хотя сохраняет иронию по отношению к читателю. Первый Печорин компрометирует девушку, просто чтобы прослыть опасным соблазнителем; поступки второго Печорина обусловлены не столько праздностью, сколько роковой и глубокой противоречивостью характера.
В «Герое нашего времени» глухо упоминается какая-то петербургская история, вынудившая Печорина уехать на Кавказ, но нет данных, что это развязка конфликта, намеченного в «Княгине Лиговской». В черновиках «Героя» Печорин говорит о «страшной истории дуэли», в которой он участвовал.
Борис Эйхенбаум полагает, что причины отъезда были политическими и Печорин мог быть связан с декабристами потому-то «автор-издатель», имея в своём распоряжении целую тетрадь с описанием печоринского прошлого, отказывается до поры до времени её публиковать 22 Эйхенбаум Б.
В любом случае в «Княгине Лиговской» нет и следа всей этой тайной биографии. Дело, в конце концов, и просто в том, что «Княгиня Лиговская» и «Герой два нашего времени» — очень разные произведения. По выражению Эйхенбаума, русская проза х проводит «черновую» работу, подготавливающую появление настоящего русского романа. В отношении стиля «Княгиня Лиговская» испытывает сильное гоголевское влияние, а её светское содержание связано с такими текстами, как повести Бестужева-Марлинского и Одоевского, примиряющие романтический подход к реальности с нравоописательностью, в которой уже больше предвестия натуральной школы, чем влияния европейской прозы XVIII века.
Прекратив движение в этом русле, Лермонтов совершает рывок вперёд и создаёт новаторский текст на излёте романтической традиции — эксперимент «Героя нашего времени» с романной формой и углубление романтического героя настолько убедительны, что порождают целый шлейф подражаний, хотя, казалось бы, эпоха романтизма уже позади.
Вместе с тем считать «Княгиню Лиговскую» совершенно неудачным опытом — несправедливость: одна только сцена объяснения Печорина с оскорблённым им бедным и гордым чиновником Красинским вполне стоит Достоевского. Некоторые черты и мысли Красинского Лермонтов передаст Печорину из «Героя нашего времени». Если верить самому Печорину, причины его состояния нужно искать в его ранней молодости и даже детстве. Он исповедуется сначала Максиму Максимычу, а затем княжне Мери, жалуясь одному на пресыщенность светскими удовольствиями, женской любовью, военными опасностями, другой — на трагическое непонимание, которое он всю жизнь встречал от людей.
Перед нами типично байроническая биография и рецепт от скуки: они умещаются, например, в канву «Паломничества Чайльд-Гарольда». Но в разочаровании Печорина усматривают не только «моду скучать», которую завели англичане. Разумеется, байроническая хандра и отверженность импонировали Печорину, хорошо знавшему Байрона. В советском и российском литературоведении есть традиция считать поведение лермонтовского героя следствием апатии, охватившей общество после провала восстания декабристов, в «ужасные» годы, как называл их Герцен 23 Гуревич А.
Динамика реализма в русской литературе XIX в. Творческий путь Лермонтова. В этом есть доля истины: ещё Герцен возводил идеи Лермонтова к декабризму, а историческая травма — характерное оправдание для «болезней века» так и у Мюссе герой «Исповеди сына века» ссылается на раны и годов.
Но Печорина даже меньше, чем Евгения Онегина, волнуют идеалы свободы: он противопоставляет себя в том числе и обществу, в котором эти идеалы могут быть востребованы. Эти идеалы, безусловно, были важны для Лермонтова — и может быть, здесь кроется причина сходства между автором и героем: Лермонтов сообщает Печорину свои чувства, своё ощущение безвыходности, но не даёт ему своей мотивации.
Возможно, чтобы компенсировать это, он придаёт портрету Печорина контрастные, противоречивые черты: «В его улыбке было что-то детское. Его кожа имела какую-то женскую нежность», но на «бледном, благородном лбу» можно при усилии заметить «следы морщин, пересекавших одна другую и, вероятно, обозначавшихся гораздо явственнее в минуты гнева или душевного беспокойства».
Глаза Печорина «не смеялись, когда он смеялся», а его тело, «не побеждённое ни развратом столичной жизни, ни бурями душевными», может в минуту отдыха «изобразить какую-то нервическую слабость». Столь контрастный облик, согласно представлениям XIX века о физиогномике Определение личности человека, его физического и душевного здоровья по чертам лица.
Сегодня физиогномика считается псевдонаучной дисциплиной. Печорина, наряду с Онегиным, считают родоначальником «лишних людей» в русской литературе. В толковании традиционного советского литературоведения Печорин не может раскрыть свой общественный потенциал и оттого занят интригами, игрой, соблазнением женщин.
Эта точка зрения существовала и до Октябрьской революции. Возможна и другая трактовка, скорее экзистенциального, а не социального характера. Здесь легко узнать характеристику другого типажа русской литературы — «подпольного человека» Достоевского, живущего за счёт негативного самоутверждения. Психологизм лермонтовской прозы — именно в понимании возможности подобного характера, глубоко индивидуалистичного, фрустрированного впечатлениями детства.
Печорина, в конце концов, можно считать «лишним» в позитивном смысле: ни один другой герой романа не способен к такому «напряжённому самоуглублению» и «исключительной крепости субъективной памяти» 25 Овсянико-Куликовский Д. Несмотря на то что Печорин, как предполагает Лермонтов, портрет типичного человека своего поколения, собравший в себе все пороки времени, на самом деле он уникален — и именно поэтому привлекателен.
Время действия «Героя нашего времени» — пик увлечения романтическим искусством и романтическими штампами в русском аристократическом обществе. Эмоциональный шлейф от этого увлечения растянется ещё на долгие десятилетия, но конец х — то время, когда романтизм, в литературе уже проблематизированный и даже преодолённый в первую очередь усилиями Пушкина , «идёт в народ». Отсюда и эпигонское, демонстративное поведение Грушницкого например, его преувеличенная и пошлая куртуазность.
Печорин ощущает, что Грушницкий — карикатура на того человека, каким является он сам: Грушницкий «важно драпируется в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания», что «нравится романтическим провинциалкам» последнее высказывание — камень и в огород самого Печорина ; он «занимался целую жизнь одним собою».
Вполне возможно, что Грушницкий раздражает Печорина не только тем, что он обезьянничает его поведение, но и тем, что он утрирует и выставляет напоказ его неприглядные стороны — становясь, таким образом, не карикатурой, а скорее кривым зеркалом. Если предполагать в «Герое нашего времени» нравоучительный компонент, то фигура Грушницкого гораздо сильнее, чем фигура Печорина, обличает типовой романтический образ жизни.
Следующая в русской литературе итерация сниженной романтической фигуры — Адуев-младший из «Обыкновенной истории» Гончарова 27 Гинзбург Л. О психологической прозе. О литературном герое. Впрочем, стоит учесть амбивалентное отношение Гончарова к своему персонажу: как мы сейчас увидим, неоднозначен в глазах автора и Грушницкий. Разумеется, Лермонтов подчёркивает разницу между Печориным и Грушницким — вплоть до мелочей.
Например, важный для романа мотив звёзд появляется в «Княжне Мери» только дважды: Грушницкий, произведённый в офицеры, называет звёздочки на эполетах «путеводительными звёздочками», Печорин же перед дуэлью с Грушницким волнуется, что его звезда «наконец ему изменит». Но у Грушницкого — «путеводительная звёздочка» карьеры, у Печорина — «звезда судьбы» 28 Журавлёва А. Вместе с тем момент экзистенции, предельного, предсмертного состояния высвечивает в Грушницком глубину, которую Печорин, ставящий своего соперника в патовую ситуацию, не мог раньше в нём заподозрить.
Грушницкий отказывается продолжать нечестную игру, предлагаемую ему гусарским капитаном, и жертвует собой, — возможно, чтобы искупить ранее совершенную подлость. Петр Вайль и Александр Генис пишут: «Грушницкий… перед смертью выкрикивает слова, которые никак не соответствуют дуэльному кодексу: «Стреляйте!.. Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла». Это пронзительное признание совсем из другого романа. Быть может, из того, который ещё так нескоро напишет Достоевский.
Жалкий паяц Грушницкий в последнюю секунду вдруг срывает маску, навязанную ему печоринским сценарием» 29 Вайль П.
Примечательно, что в году знакомая Лермонтова Эмилия Шан-Гирей, которую Лермонтов «находил особенное удовольствие» дразнить, возвращает ему угрозу Грушницкого: «я вспылила и сказала, что ежели б я была мужчина, я бы не вызвала его на дуэль, а убила бы его из-за угла в упор» 30 Щёголев П.
Примечательно, наконец, что, высмеивая и убивая Грушницкого, Лермонтов выводит из-под удара Печорина. Жизненная цель Грушницкого — сделаться героем романа — действительно сбывается, когда Грушницкий попадает в записки Печорина и в роман Лермонтова. Но Печорин, острящий по этому поводу, тем самым отвергает возможные обвинения в литературности 31 Эйхенбаум Б. Когда героине романа Йена Флеминга «Из России с любовью», русской шпионке Татьяне Романовой, нужно придумать легенду о том, почему она якобы влюбилась в Джеймса Бонда по-настоящему она влюбится в него уже потом , она скажет, что он напоминает ей Печорина.
Репутация опасного мужчины, конечно, благоприятствует интересу противоположного пола, тем более если к ней добавляется физическая красота. Он раздражает и одновременно интригует княжну Мери, затем раскрывает ей душу в исповеди — будто бы искренней по содержанию, но произнесённой с расчётом Печорин говорит, «приняв глубоко тронутый вид» — и добивается признания в любви.
Эта игра с наивной княжной — вполне романтического свойства: Печорин становится «светским вариантом Демона», «сея зло без наслажденья» 33 Эткинд Е. Он упивается произведённым эффектом: «Все заметили эту необыкновенную весёлость.
И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервический припадок: она проведёт ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира А ещё слыву добрым малым и добиваюсь этого названия! Современный психолог мог бы найти в Печорине черты перверзного нарциссиста : человека, идеализирующего самого себя и испытывающего потребность подчинять других своей воле.
Такой человек запутывает и изматывает своего партнёра, который не в силах с ним расстаться. Он создаёт вокруг себя своего рода психологическое силовое поле и уверен в своей неотразимости — вспомним, как легко Печорин покупается на трюк, который проделывает с ним контрабандистка в «Тамани» хотя и принимает меры предосторожности. Сложная личность Печорина не ограничивается этими чертами перверзные нарциссисты, как правило, выбирают одну жертву на долгое время.
Во многих других отношениях он благороден, а в своих неблаговидных поступках отдаёт себе отчёт. Ему трудно понять, почему его любит Вера, которая одна поняла его до конца, со всеми пороками и слабостями.
Вера меж тем любит его «просто так» — и это единственная необъяснимая и подлинная любовь в романе. Мери — типичная барышня из романов, напрочь лишённая индивидуальных черт, если не считать её «бархатных» глаз, которые, впрочем, к концу романа забываются.
Вера совсем уже придуманная со столь же придуманной родинкой на щеке; Бэла — восточная красавица с коробки рахат-лукума» — так, в обычной своей манере, аттестует героинь романа Набоков. Вера не нравилась и Белинскому: «Лицо Веры особенно неуловимо и неопределённо. Это скорее сатира на женщину, чем женщина. Только что начинаете вы ею заинтересовываться и очаровываться, как автор тотчас же и разрушает ваше участие и очарование какою-нибудь совершенно произвольною выходкою».
Эта «произвольная выходка» — знаменательная проговорка: Белинский не готов видеть в «произволе» женщины сознательное решение автора. Между тем Вера — самая «субъектная» героиня Лермонтова. Именно она «ведёт» во взаимоотношениях с Печориным, именно она помогает запуститься интриге с Мери, наконец, именно она — одна из всех — поняла Печорина «совершенно, со всеми… слабостями, дурными страстями».
Вера жертвует собой, надеясь, что Печорин когда-нибудь поймёт, что её любовь к нему «не зависела ни от каких условий»; потеряв Веру, Печорин выходит из себя, почти сходит с ума, моментально расстаётся со своим блестящим хладнокровием. Другие женщины в «Герое нашего времени» гораздо «объектнее». Исследовательница Жеанн Гайт называет героиню, которую отвергает «лишний человек» в романтическом произведении, «обязательной женщиной»: она непременно присутствует возле героя и определяет его качества.
В таком случае Бэла и Мери необходимы сюжету, чтобы показать неспособность Печорина к любви и верности 34 Kahn A. Посмотрим, как оно реализуется. Нет ничего парадоксальнее женского ума; женщин трудно убедить в чём-нибудь, надо их довести до того, чтоб они убедили себя сами. Описание Бэлы входит в «полный стандартный набор» 35 Вайль П.
Нельзя сказать, что Бэла совершенно пассивна: она сама пропевает Печорину нечто «вроде комплимента», в минуту гордости и гнева на Печорина она вспоминает: «Я не раба его — я княжеская дочь!.. Характерно, что единственный раз, когда покорённая Бэла совершает нечто по собственной воле, — ослушавшись Печорина, выходит из крепости, — заканчивается её гибелью. Впрочем, если бы Бэла не ослушалась, то погибла бы всё равно, окончательно наскучив Печорину, который её так добивался.
Сегодня уговоры Печорина могли бы войти в феминистский учебник как примеры виктимблейминга От английского victim — «жертва» и blame — «обвинять». Под виктимблеймингом понимают ситуацию, когда ответственность за насилие, физическое или психологическое, возлагается не на насильника, а на жертву. Происхождение термина связано с голливудским фильмом «Газовый свет» , в котором изображён этот вид психологического насилия. Бедной Бэле ничего не остаётся, кроме как сдаться. Так же объективируется поначалу и княжна Мери «Если бы можно было слить Бэлу и Мери в одно лицо: вот был бы идеал женщины!
Замечания Печорина о ней циничны — даже пустой Грушницкий замечает: «Ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади». Ничего необычного в этом нет: Печорин и в «Тамани» заявляет, что «порода в женщинах, как и в лошадях, великое дело». Ещё циничнее та игра, которую он ведёт с Мери. Но когда эта игра подходит к финалу, Мери удаётся перерасти назначенную ей роль:.
Не правда ли, если даже вы меня и любили, то с этой минуты презираете? Она обернулась ко мне бледная, как мрамор, только глаза её чудесно сверкали. А вот в «Тамани» уверенность Печорина в том, что ему покорится любая женщина, играет с ним злую шутку. Печорин не просто уверен в своей победе — он и странности в поведении контрабандистки, которые могли бы внушить ему сомнения, трактует в духе романтической литературы: «дикая» девушка кажется ему то Ундиной из баллады Жуковского, то гётевской Миньоной.
Крах любовного приключения подан, как обычно у Лермонтова, иронически, но кажется, что эта ирония маскирует здесь разочарование. Обыгрывая штамп «лишний человек», мы можем прийти к выводу, что на самом деле такого названия в романе заслуживает Максим Максимыч. Его последовательно игнорируют: умирающая Бэла не вспоминает о нём перед смертью, и это ему досадно; Печорин, встретившись с ним снова, обижает его грубостью и холодностью.
Он отсутствует в активном движении сюжета почти так же, как «автор-издатель» романа, который сознательно но не полностью устраняется из текста. Но, как и «автор-издатель», «маленький» и «лишний» человек Максим Максимыч на самом деле важнейший элемент в системе персонажей.
Именно он запускает механизм повествования и играет не последнюю роль в судьбе героев рассказывает Печорину о разговоре Казбича с Азаматом, ведёт Бэлу прогуляться на вал, где её увидит Казбич.
Более того, в его руках в какой-то момент оказывается судьба всей истории Печорина: обиженный встречей, он готов пустить печоринские рукописи на патроны. Я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге.
И сторонники, и противники Лермонтова отмечали, что Максим Максимыч — исключительно удачный образ. Белинский писал о «типе старого кавказского служаки, закалённого в опасностях, трудах и битвах, которого лицо так же загорело и сурово, как манеры простоваты и грубы, но у которого чудесная душа, золотое сердце» и говорил, что этот тип — «чисто русский, который художественным достоинством создания напоминает оригинальнейшие из характеров в романах Вальтера Скотта и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто русскому духу, не походит ни на один из них»; свою апологию критик завершает пожеланием читателю «поболее встретить на пути вашей жизни Максимов Максимычей ».
Критики отмечали сходство Максима Максимыча с одним из первых «маленьких людей» в русской литературе — Самсоном Выриным из «Станционного смотрителя»; читательская симпатия к Вырину переносится и на лермонтовского штабс-капитана.
Но помимо сюжетной и типологической у Максима Максимыча есть ещё две важные функции. Во-первых, он — основной источник этнографических сведений в «Бэле». Он понимает языки горских народов и прекрасно знает их обычаи и нравы, хотя и толкует их с позиции снисходительного европейца, вплоть до «Ужасные бестии эти азиаты!
Его опыт «старого кавказца», в котором Лермонтов обобщил собственные наблюдения и знания старших товарищей по службе, гарантирует достоверность сведений — при этом Лермонтов, конечно, осознаёт колониальную оптику своего персонажа, заставляя его произносить сентенции вроде: «Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего не надобно».
Во-вторых, Максим Максимыч, как и доктор Вернер, в системе персонажей «Героя нашего времени» служит противовесом фигуре Печорина; явно ощутимая авторская симпатия к обоим персонажам сообщённая Печорину и безымянному рассказчику означает не только то, что они добрые и честные люди, но и то, что они необходимы сюжету, гармонизируют его.
Мотив судьбы так или иначе появляется во всех частях «Героя нашего времени». В «Фаталисте» вопрос о том, предначертана ли каждому его судьба, ставится с «финальной остротой» 37 Архангельский А. Пари Печорина с Вуличем состоит в следующем: Вулич утверждает, что предопределение существует, Печорин — что нет; Вулич подносит пистолет к виску и нажимает на курок: пистолет даёт осечку — значит, Вуличу не суждено умереть в этот раз, и он мог спокойно испытать судьбу.
Легко заметить, что у этого пари странные условия: если бы пистолет выстрелил, можно было бы сказать, что так и должно было произойти и Вулич угадал свой роковой миг.
Дело осложняется тем, что Печорин, ставящий против предопределения, на самом деле в него тайно верит: он видит, что на лице Вулича лежит печать смерти, «странный отпечаток неизбежной судьбы».
Таким образом, предлагая Вуличу пари, он фактически готов стать инструментом этой судьбы и принести своему сопернику смерть. Эта сложная игра с судьбой — очередное подтверждение двойственности героя. В Вуличе он впервые встречает ровню себе: человека бесстрашного и демоничного.
Как и пародийный Грушницкий, этот двойник должен быть устранён, а его смерть должна подтвердить способность Печорина знать всё наперёд. Спасение Вулича поражает его, он начинает верить в предопределение осознанно — хотя вся его скептическая философия этому противится:. Мысль о предопределении неприятна Печорину и с прагматической точки зрения: ведь он «всегда смелее идёт вперёд, когда не знает, что его ожидает».
Вскоре после пари Вулич действительно гибнет от руки пьяного казака — и Печорин поражён таким неожиданным разрешением спора о предопределении: Вулич, думавший, что должен жить, на самом деле должен был умереть.
После этого Печорин рискует жизнью, помогая схватить убийцу Вулича. У этого поступка опять-таки двойная мотивировка: с одной стороны, Печорин решает так же, как Вулич, испытать судьбу — и превзойти своего двойника, остаться живым там, где Вулич погиб.
С другой стороны, он помогает совершиться возмездию — и тем самым отдаёт убитому дань уважения. Колониальный роман, рождающийся внутри романтизма, тесно связан с приключенческим жанром. В одних случаях он предполагает цивилизаторское, эксплуататорское, высокомерное отношение героя-европейца к коренному населению: вероятно, самый известный текст такого рода — «Копи царя Соломона» Генри Хаггарда В других случаях представитель цивилизации заводит с «аборигенами» дружбу, участвует в их приключениях, даже становится на их сторону; в качестве примеров можно назвать знакомые Лермонтову романы Фенимора Купера.
Оба типа романа строятся на мифах — об «ужасном дикаре» и о «благородном дикаре». К примеру, цивилизаторская снисходительность Максима Максимыча к «азиатам» и «татарам» оттеняется иронической характеристикой самого Максима Максимыча, а «автор-издатель» разделяет штампы о кавказцах довольно пассивно: характерно, что, попав в саклю, полную бедных путников, он называет их «жалкими людьми», а Максим Максимыч — «преглупым народом».
Русский «кавказский текст» первой половины XIX века отвечает романтическому, восходящему к Шеллингу требованию национального содержания для литературы. У национальной литературы должно быть и своё экзотическое; естественным образом для Лермонтова, вслед за Пушкиным и Марлинским, экзотическим полигоном становится Кавказ.
Экзотика здесь важнее достоверной этнографии — уже в году журнал «Современник» оглядывался на русскую романтическую прозу со словами: «Недостаток фактических сведений обыкновенно пополнялся красотами цветистого слога, сделавшегося до того неизбежным в кавказских повестях, что одно время кавказская повесть и высокий слог были синонимами в русской литературе» 38 Виноградов В.
Этнонимы у Лермонтова условны: неразличение между черкесами, чеченцами, «татарами» задаёт головную боль комментаторам Лермонтова 40 Дурылин С. Неосознанное пренебрежение видно и в речах Печорина, который называет Бэлу пери — то есть персонажем персидской демонологии, не имеющим отношения к Кавказу.
В описаниях Кавказа у Лермонтова много двойственности. С одной стороны, он с удивительным искусством говорит о горных вершинах, речках, ущельях; превосходный знаток Кавказа, он явно передаёт собственное восхищение кавказской природой. Его описания разительно, иногда почти дословно совпадают с пушкинским «Путешествием в Арзрум», но гораздо красочнее, насыщенней; те же впечатления отразились в «Демоне» и «Мцыри».
С другой стороны, он способен, снижая регистр, вспомнить «чугунный чайник — единственную отраду мою в путешествиях» или даже, будто боясь быть принятым за Марлинского, демонстративно отказаться следовать жанру: «Избавлю вас от описания гор, от возгласов, которые ничего не выражают, от картин, которые ничего не изображают, особенно для тех, которые там не были, и от статистических замечаний, которые решительно никто читать не станет».
Вся эта двойственность — признак неустоявшегося отношения Лермонтова к кавказскому экзотизму и романтической мифологии. Чтобы снять эту проблему, он, как всегда, прибегнет к иронии — так появится «Тамань», где, по словам Бориса Эйхенбаума, «снимается налёт наивного «руссоизма» 41 Эйхенбаум Б.
Если покорение женщины для Печорина некоторым образом параллельно покорению Кавказа, то в «Тамани» погоня за очередной «дикаркой» оканчивается комической катастрофой. Первое сходство героев Пушкина и Лермонтова видно на самом внешнем уровне: обе фамилии, Онегин и Печорин, не существовали в реальности и происходят от названий рек — Онеги и Печоры. Отталкиваясь от этого, Белинский писал, что «несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою»: Печорин — «это Онегин нашего времени».
Характерно, что в черновиках «Княгини Лиговской» Лермонтов один раз по ошибке называет своего Печорина Евгением. Очевидны и сюжетные параллели: любовь княжны Мери к Печорину, в которой она признаётся сама, напоминает нам о признании Татьяны Онегину; дуэль с Грушницким — младшим другом Печорина — вторит дуэли Онегина с Ленским даже в мотивировке: Онегин, чтобы позлить Ленского, танцует с Ольгой; Печорину скучно, и он разыгрывает с Грушницким комедию для собственного увеселения.
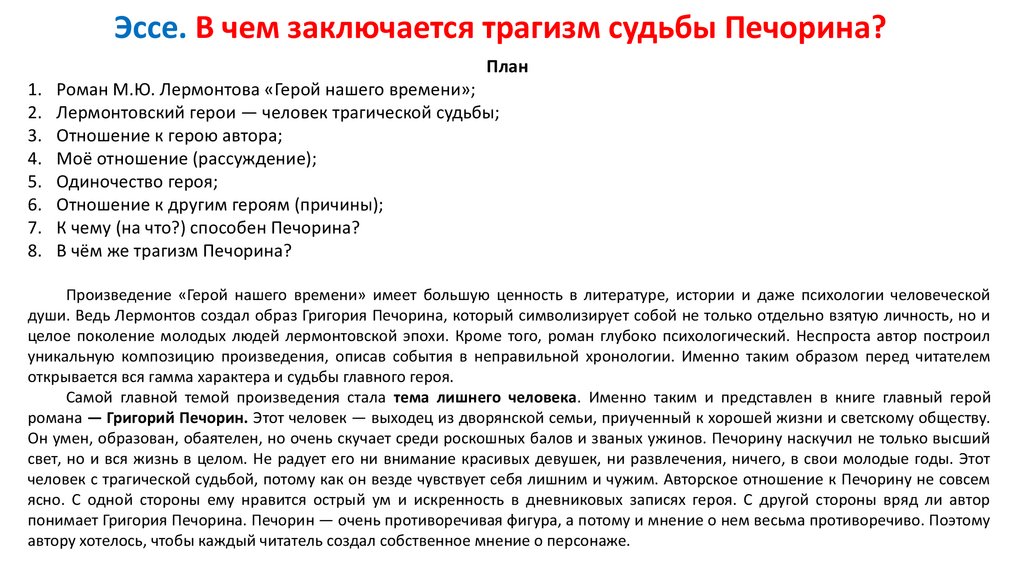
В фигуре Грушницкого, эталонного «вульгарного романтика», очень многое сходно с Ленским:. Говорит он скоро и вычурно: он из тех людей, которые на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, которых просто прекрасное не трогает и которые важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — их наслаждение; они нравятся романтическим провинциалкам до безумия.
Ваша чистая душа содрогнётся! Да и к чему? Что я для вас! Поймёте ли вы меня? Всё это, не правда ли, напоминает «тёмные и вялые» вирши Ленского, в которых Пушкин пародирует ходовой поэтический романтизм, и его чрезмерную аффектацию в личных отношениях впоследствии эти излияния хорошенькой соседке спародирует Гончаров в «Обыкновенной истории».
Слово «пародия» здесь повторяется не напрасно: сама «Княжна Мери» находится с «Евгением Онегиным» в отчасти пародических отношениях 42 Святополк-Мирский Д. История русской литературы. Новосибирск: Издательство «Свиньин и сыновья», Чтобы осознать это, посмотрим на то, чем герои Лермонтова отличаются от пушкинских. В их психологических портретах есть двойственность, некое подчёркнутое тёмное начало.
Возвращаясь к гидронимическому сходству, можно вспомнить замечание Бориса Эйхенбаума: «Онега течёт ровно, в одном направлении к морю; русло Печоры изменчиво, витиевато, это бурная горная река» 43 Эйхенбаум Б. Ленский, конечно, не способен на подлость в духе Грушницкого, который сначала распускает о Печорине и об отвергнувшей его Мери грязные сплетни, а затем хочет одурачить Печорина, по совету товарища не зарядив его пистолет.
То же и с Печориным: как пишет филолог Сергей Кормилов, «невозможно вообразить Онегина на балконе чужого дома подглядывающим в окно Татьяны, а Печорин, выбираясь таким путём от Веры, чужой жены, удовлетворяет своё любопытство, заглянув в комнату Мери» 44 Кормилов С. Смена взглядов на персонажа тоже отличает Печорина от предшественника: Печорин показан нам с точки зрения Максима Максимыча, повествователя и, наконец, своей собственной. Таким образом, в каком-то смысле мы узнаём Печорина гораздо ближе, чем Онегина 45 Kahn A.
Параллели между романом и лирикой Лермонтова отмечались не раз, в том числе на структурном уровне. Анна Журавлёва считает, что роман Лермонтова объединён не только сюжетом, но и «словесно-смысловыми мотивами, характерными для поэзии Лермонтова… так, как бывает объединён лирический цикл» 46 Журавлёва А. Ещё раньше Набоков замечал, что вложенность снов и смена точек зрения в стихотворении «Сон» «В полдневный жар в долине Дагестана…» «сродни переплетению пяти рассказов, составивших роман Лермонтова».
Психологическая близость Печорина к Лермонтову делает переклички романа с лермонтовской лирикой неизбежными. Так, уже в раннем стихотворении «го, июня 11 дня» можно увидеть мотивы исповедальных монологов Печорина, его двойственности, непонимания со стороны окружающих:.
Моя душа, я помню, с детских лет Чудесного искала. Я любил Все обольщенья света, но не свет, В котором я минутами лишь жил…. Никто не дорожит мной на земле, И сам себе я в тягость, как другим; Тоска блуждает на моём челе. Я холоден и горд; и даже злым. Замысел «Мёртвых душ» был одним из возможных решений: это была циклизация нравоописательных и бытовых очерков, сцепленных не только личностью главного героя, но и непрерывным участием автора, занятого пристальным наблюдением над всем происходящим и повествующего о своих размышлениях и чувствах.
Вместо Даля мечту Пушкина при его содействии осуществил Гоголь, но получившийся в итоге своеобразный жанр не решал проблемы психологического романа, с «разложением души», с «историей сердца» — романа, заданного «Евгением Онегиным» и теоретически обоснованного предисловием Вяземского к переводу «Адольфа». Между тем эта проблема становилась насущной, поскольку всё более острым становился вопрос о судьбах дворянской интеллигенции — о будущем трагического поколения, пережившего декабрьскую катастрофу и потерявшего надежду на возможность больших творческих занятий и дел.
При таком положении личная тема получала глубоко общественный смысл. В году Герцен приветствовал предпринятые юной Францией «анатомические разъятия души человеческой», благодаря которым раскрылись «все смердящие раны тела общественного» [54]. В году он сочувственно цитирует слова Гейне о том, что «каждый человек есть вселенная», — и прибавляет от себя: «История каждого существования имеет свой интерес… интерес этот состоит в зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное, общее направление» [55].
Позднее, в х годах, Герцен заявит прямо: «Действительно трудное не за тридевять землей, а возле нас, так близко, что мы и не замечаем его, — частная жизнь наша, наши практические отношения к другим лицам, наши столкновения с ними» [56]. И в один голос с Герценом Бальзак заявил в предисловии к «Человеческой комедии»: «Я придаю фактам постоянным, повседневным, тайным или явным, а также событиям личной жизни, их причинам и побудительным началам столько же значения, сколько до сих пор придавали историки событиям общественной жизни народов» [57].
Эти сходства и совпадения не были случайны — таков был голос эпохи, к которой принадлежал и Лермонтов. Переход от «Вадима» к «Княгине Лиговской» был уже подсказан новыми психологическими задачами — теми хроническими «недугами сердца», той «диалектикой ума и чувства», о которых писал Вяземский в сотрудничестве с Пушкиным.
Теперь, пережив за один год такое количество глубоких и важных жизненных впечатлений, какого ему не случалось переживать в прежние годы, Лермонтов задумал писать книгу об этом трагическом поколении, об этом «недуге». В процессе работы замысел получил точное и боевое выражение: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа» Предисловие к «Журналу Печорина».
История замысла и писания «Героя нашего времени» совершенно неизвестна: ни в письмах Лермонтова, ни в воспоминаниях о нем никаких сведений об этом нет. В письмах к С. Раевскому от 8 июля года, когда работа над новым романом была, вероятно, уже начата, Лермонтов ограничился сообщением, что начатый прежде роман то есть «Княгиня Лиговская» «затянулся и вряд ли кончится».
Кроме того, в этом письме есть грустная фраза: «Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». Речь идёт, по-видимому, о поэме «Тамбовская казначейша», написанной как будто специально для того, чтобы проститься с этим старым жанром «Пою, друзья, на старый лад» и обратиться к прозе. Некоторые наблюдения и предположения относительно замысла и написания «Героя нашего времени» можно сделать путём анализа самих текстов.
Ещё до выхода романа отдельным изданием три входящие в него повести были напечатаны в «Отечественных записках»: «Бэла» Такая возможность подтверждалась и концом повести, где автор рассказывает, как он в Коби расстался с Максимом Максимычем: «Мы не надеялись никогда более встретиться, однако встретились, и, если хотите, я когда-нибудь расскажу: это целая история» [58].
Появившийся после большого перерыва «Фаталист» не имел подзаголовка, но редакция сделала к нему следующее примечание: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе». Из этих слов нельзя было заключить, что будущее «собрание повестей» окажется цельным «сочинением» как сказано на обложке отдельного издания или даже романом, но тексту «Фаталиста» предшествует предисловие автора «Бэлы», устанавливающее прямую сюжетную или структурную связь этих вещей: «Предлагаемый здесь рассказ находится в записках Печорина, переданных мне Максимом Максимычем.
Прибавим, что внимательный читатель мог и сам заметить, что рассказчик и герой «Фаталиста» — Печорин, поскольку в конце говорится: «Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу всё, что случилось со мною» и т.
Надо ещё отметить, что предисловием к «Фаталисту» Лермонтов отождествил себя с автором «Бэлы» и придал рассказанной там встрече с Максимом Максимычем совершенно документальный, мемуарный характер. Из всего этого как будто следует, что порядок появления этих трёх вещей в печати и был порядком их написания, то есть что работа над «Героем нашего времени» началась «Бэлой».
В пользу этого говорит также признание, сделанное в рассказе «Максим Максимыч»: задержавшись в Екатеринограде, автор «вздумал записывать рассказ Максима Максимыча о Бэле, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей» [59].
Однако эти слова можно понять иначе: они могут относиться не к истории писания, а уже к процессу расположения и сцепления повестей. В общей композиции романа «Бэла» действительно оказалась «первым звеном», но значит ли это, что она написана раньше всех других? Есть признаки, свидетельствующие об иной последовательности написания. В конце «Тамани» есть фраза: «Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень, едва сам не пошел ко дну»; в журнальном тексте и в рукописи эта фраза имеет продолжение: «а, право, я ни в чём не виноват: любопытство — вещь, свойственная всем путешествующим и записывающим людям».
Итак, герой «Тамани» оказывается не только «странствующим офицером» с подорожной «по казённой надобности», но и литератором, и тем самым его поведение с «ундиной» находит себе дополнительное оправдание в профессиональном «любопытстве» — в желании собрать интересный материал.
Почему же в таком случае в отдельном издании «Героя нашего времени» этих слов нет? Дело в том, что автор «Бэлы», описав первую встречу и знакомство с Максимом Максимычем, признаётся: «Мне страх хотелось вытянуть из него какую-нибудь историйку — желание, свойственное всем путешествующим и записывающим людям».
Такое повторение одних и тех же слов в устах автора и героя, конечно, не входило в намерения Лермонтова — оно явилось результатом простого недосмотра; но который из этих случаев и, следовательно, который из рассказов следует признать первоначальным? Литературная профессия автора «Бэлы» отражена не только в словах о желании «вытянуть Мало того: из примечания к переводу песни Казбича «привычка — вторая натура» следует, что автор «Бэлы» — поэт.
Наконец, приведённое выше предисловие к «Фаталисту», как мы уже отметили, заставляет видеть в авторе «Бэлы» не обычную литературную мистификацию, а самого Лермонтова.
Итак, в «Бэле» слова о «записывающих людях» являются органической частью текста, между тем как в «Тамани» они играют совершенно второстепенную мотивировочную роль — как оправдание «любопытства». Отметим ещё одну интересную деталь в самом конце «Тамани». В рукописи финальный текст был следующим: «Что сталось с бедной старухой, со всевидящим слепым — не знаю и не желаю знать. Сбыли они с рук свою контрабанду, или их посадили в острог?
Как бы ни толковать последние слова то есть всерьез или с иронией — они находятся в явном противоречии со словами о профессиональном «любопытстве». Понятно поэтому, что в журнале от приведённого рукописного текста осталось только: «Что сталось с бедной старухой и с мнимым слепым — не знаю». Однако в отдельном издании «Героя нашего времени» вопрос решен иначе: сняты слова о «любопытстве» записывающих людей, а приведённая выше концовка восстановлена в несколько сокращенной редакции: «Что сталось с старухой и с бедным слепым — не знаю.
Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да ещё с подорожной по казенной надобности!
Всё это приводит к выводу, что слова о «записывающих людях» появились сначала в «Тамани» как мотивировочная деталь , а затем, когда уже определилась перспектива «длинной цепи повестей», эта деталь пригодилась для «Бэлы», где и была развернута как элемент стиля и композиции.
Что касается «Тамани», то в её журнальном тексте эти слова остались, очевидно, по недоразумению. Надо, следовательно, думать, что «Тамань» была написана до «Бэлы»; мы бы даже решились утверждать, что «Тамань» написана вне всего цикла и до мысли о нём, то есть что по своему происхождению этот рассказ не имеет никакого отношения к Печорину, если бы не одно обстоятельство, несколько мешающее такому выводу.
Рассказ «Максим Максимыч», служащий переходом от «Бэлы» к «Журналу Печорина» и содержащий эпизод передачи записок Печорина их будущему издателю, появился впервые только в отдельном издании. Здесь он заканчивается словами: «Я уехал один»; за этим следует предисловие «издателя» к «Журналу Печорина», где решение печатать эти записки мотивировано смертью их автора «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер» и т.
В рукописи было иначе. Никакого предисловия к «Журналу Печорина» первоначально не было [60] , а в рассказе «Максим Максимыч» после слов «Я уехал один» был ещё текст, содержавший краткую мотивировку публикации.
Здесь нет никаких указаний на смерть Печорина наоборот? Однако Печорин нигде не обращается к читателям такие обращения есть в «Бэле» , если не считать «обращениями» такие случаи в «Тамани», как «признаюсь» или «но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?
Как бы то ни было, Лермонтов, видимо, собирался одно время сделать Печорина если не литератором, то все же человеком, занимающимся литературой, и мотивировать таким образом высокие литературные качества его записок. Впоследствии это намерение отпало в «Княжне Мери» есть даже специальная фраза: «Ведь этот журнал пишу я для себя» , в предисловии к «Журналу» издатель считает уже нужным объяснить причины, побудившие его «предать публике сердечные тайны человека», которого он «никогда не знал», а видел «только раз… на большой дороге».
Главная из этих причин — «искренность» автора, писавшего свои записки «без тщеславного желания возбудить участие или удивление». Возможно, значит, что слова о «записывающих людях» в конце «Тамани» — остаток первоначального намерения; зато первый вывод останется: «Тамань» была написана до «Бэлы», а скорее всего — раньше всех других повестей, составивших роман.
Есть вообще некоторые основания думать, что первоначальный состав «длинного рассказа» ограничивался тремя вещами: «Бэла», «Максим Максимыч» и «Княжна Мери»; остальные две — «Тамань» и «Фаталист», — во-первых, не подходят под понятие «Журнала» то есть дневника и, во-вторых, по духу своему не совсем согласуются с личностью Печорина, как она обрисовывается из «Журнала», а иной раз и с его стилем, кругом представлений, знаний и т.
Например, описание «ундины» в «Тамани» сходно с манерой, в которой сделано описание Печорина автором «Бэлы» слова о «породе» и проч. Отметим наконец, что предисловие издателя к «Журналу Печорина» целиком относится именно к «Княжне Мери», поскольку это произведение представляет собою действительно исповедь души, а не сюжетную новеллу. Можно даже сказать, что заглавие этой исповеди кажется странным, лишним: это дневник, в котором Вера, в сущности, играет более серьёзную роль, чем княжна Мери.
Итак, «Герой нашего времени» — это цикл повестей, собранных вокруг одного героя: очень важная особенность, отличающая это «сочинение» от всевозможных сборников и циклов, распространённых в русской литературе х годов. Чтобы осуществить такую психологическую циклизацию и сделать её художественной, надо было отказаться от прежних приемов сцепления и найти новый, который придал бы всей композиции цикла вполне естественный и мотивированный характер. Лермонтов это и сделал, вовсе отделив автора от героя и расположив повести в особой последовательности, которая мотивируется не только сменой рассказчиков как это было, например, у Бестужева , но и постепенным ознакомлением с жизнью и личностью героя: от первоначальной характеристики, получаемой читателем, так сказать, из вторых рук автор «Бэлы» передает рассказ Максима Максимыча , читатель переходит к характеристике прямой, но сделанной автором на основании наблюдений со стороны «на большой дороге», как сказано в предисловии к «Журналу Печорина» ; после такой «пластической» подготовки [62] читателю предоставляется возможность судить о герое по его собственным запискам.
Белинский отметил, что «части этого романа расположены сообразно с внутреннею необходимостию» [63] и что, «несмотря на его эпизодическую отрывочность, его нельзя читать не в том порядке, в каком расположил его сам автор: иначе вы прочтете две превосходные повести и несколько превосходных рассказов, но романа не будете знать» [64]. Надо прибавить, что жизнь героя дана в романе не только фрагментарно на что указано в предисловии к «Журналу» , но и с полным нарушением хронологической последовательности — или, вернее, путем скрещения двух хронологических движений.
Одно из них идёт прямо и последовательно: от первой встречи с Максимом Максимычем «Бэла» — ко второй, через день; затем, спустя какое-то время, автор этих двух вещей, узнав о смерти Печорина, публикует его записки. Это хронология самого рассказывания — последовательная история ознакомления автора а с ним вместе и читателя со своим героем.
Другое дело — хронология событий, то есть биография героя: от «Тамани» идет прямое движение к «Княжне Мери», поскольку Печорин приезжает на воды, очевидно, после участия в военной экспедиции в «Тамани» он — офицер, едущий в действующий отряд ; но между «Княжной Мери» и «Фаталистом» надо вставить историю с Бэлой, поскольку в крепость к Максим Максимычу Печорин попадает после дуэли с Грушницким «Вот уже полтора месяца, как я в крепости N ; Максим Максимыч ушёл на охоту». Встреча автора с героем, описанная в рассказе «Максим Максимыч», происходит спустя пять лет после события, рассказанного в «Бэле» «этому скоро пять лет», — говорит штабс-капитан , а читатель узнаёт о ней до чтения «Журнала».
Наконец, о смерти героя читатель узнает раньше, чем об истории с «ундиной», с княжной Мери и проч. Мало того, это сообщение сделано с ошеломляющей своей неожиданностью прибавкой: «Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало». Перед нами, таким образом, как бы двойная композиция, которая, с одной стороны, создает нужное для романа впечатление длительности и сложности сюжета, а с другой — постепенно вводит читателя в душевный мир героя и открывает возможность для самых естественных мотивировок самых трудных и острых положений — вроде встречи автора со своим собственным героем или преждевременного с сюжетной точки зрения сообщения о его смерти.
Это было новым по сравнению с русской прозой х годов явлением — и вовсе не узко «формальным», поскольку оно было порождено стремлением рассказать «историю души человеческой», поставить, как говорит Белинский, «важный современный вопрос о внутреннем человеке» [65]. Для этого надо было воспользоваться теми приемами сцепления повестей и построения сюжета, которые были известны раньше, но наделить их новыми функциями и найти для них убедительные внутренние мотивировки.
Совершенно прав был Ап. Так, необходимо было для «пластической» подачи героя вложить первоначальные сведения о Печорине в уста особого рассказчика — человека, хорошо осведомлённого и доброжелательного, но постороннего по духу и воспитанию; это привело к появлению Максима Максимыча. У другого писателя х годов он, вероятно, так и остался бы в роли рассказчика — как «помощный» персонаж; Лермонтов прилагает ряд специальных усилий, чтобы укрепить его положение в романе и сделать его мотивировочную функцию возможно менее заметной.
Правдоподобность и убедительность мотивировок — одна из художественных особенностей «Героя нашего времени», благодаря которой знакомые по прежней литературе русской и западной «романтические» ситуации и сцены приобретают здесь вполне естественный, «реалистический» характер. На фоне такой необычной, сохраняющей черты «демонизма» личности, как Печорин, простота этих мотивировок действует особенно убедительно.
Двойная композиция романа подкрепляется двойным психологическим и стилистическим строем рассказанной в нем русской жизни. Этот художественный «психологизм», характерный не только для русской, но и для французской литературы х годов, был плодом глубоких общественно-исторических потрясений и разочарований, начало которых восходит к революции года.
Всё то, что было, уже прошло. Всё то, что будет, ещё не наступило. Не ищите же ни в чём ином разгадки наших страданий» [67]. В сердце русского народа была национальная рана — декабрьская катастрофа и последовавшая за ней эпоха деспотизма.
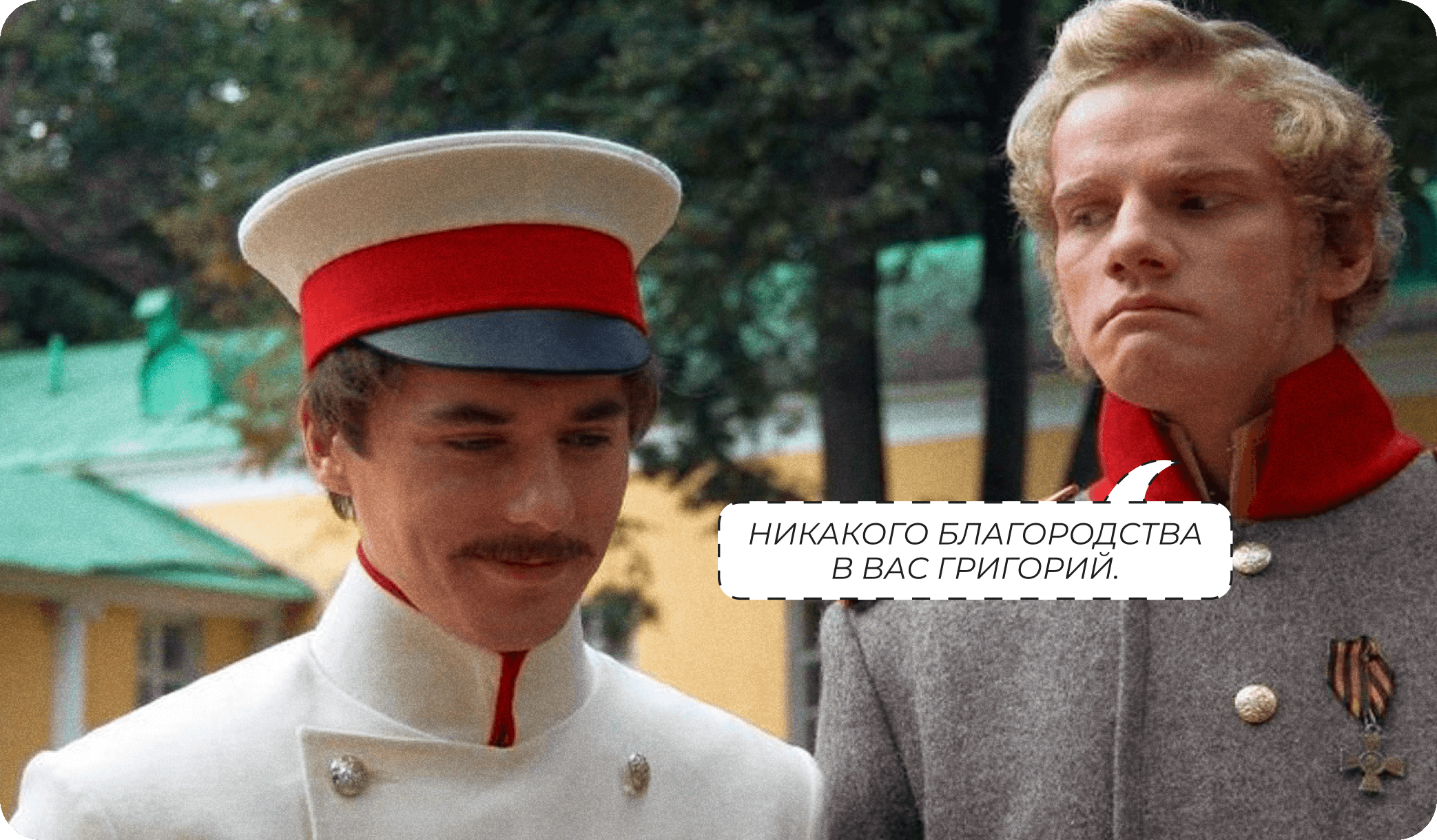
Первоначально Лермонтов озаглавил свой роман — «Один из героев начала века». В этом варианте заглавия можно усмотреть и отражение и своего рода полемику с нашумевшим тогда романом Мюссе «Исповедь сына века» точнее — «одного из детей века».
Предмет художественного изучения Лермонтова — не типичное «дитя» века», заражённое его болезнью, а личность, наделённая чертами героики и вступающая в борьбу со своим веком. Другое дело, что эта борьба носит трагический характер,? В этой редакции слово «герой» звучит без всякой иронии и, может быть, прямо намекает на декабристов «герои начала века» ; в окончательной формулировке «Герой нашего времени» есть иронический оттенок, но падающий, конечно, не на слово «герой», а на слово «нашего», то есть не на личность, а на эпоху [68].
В этом смысле очень многозначителен уклончивый но, в сущности, достаточно ясный ответ автора на вопрос читателей о характере Печорина в конце предисловия к «Журналу» : « — Мой ответ — заглавие этой книги. Значит, это действительно отчасти ирония, но адресованная не к «характеру» Печорина, а к тому времени, которое положило на него свою печать.
Наличие скрытой полемики с Мюссе можно, кажется, видеть и в предисловии Лермонтова к роману. Мюссе начинает свой роман с заявления, что «многие… страдают тем же недугом», каким страдает он сам, — и роман написан для них: «Впрочем, если даже никто не задумается над моими словами, я все-таки извлеку из них хотя бы ту пользу, что скорее излечусь сам» [70].
Итак, Мюссе не только изучает самую болезнь и её происхождение, но и надеется помочь её излечению. Лермонтов употребляет ту же терминологию болезнь, лекарства , но ставит себе иную задачу и как бы с усмешкой отвечает на слова Мюссе: «Но не думайте, однако, после этого, чтоб автор этой книги имел когда-нибудь гордую мечту сделаться исправителем людских пороков.
Боже его избави от такого невежества!.. Будет и того, что болезнь указана, а как её излечить — это уж бог знает! При этом автор, тоже в противоположность Мюссе, решительно отрицает, будто он нарисовал в Печорине свой портрет. Наконец, Мюссе пишет целую историческую главу, чтобы найти корень болезни и сделать «дитя века» не виноватым или, во всяком случае, заслуживающим полное отпущение грехов.
Лермонтов, при всём своём сочувствии к герою, не идет на это, считая, что «история души» особенно полезна в том случае, если «она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление». Герой романа Мюссе, отделавшись красноречивой исторической главой, погружается в воспоминания о своих любовных делах; Печорин мечется в поисках настоящей жизни, настоящей цели — и то и дело оказывается на краю гибели.
Никаких исторических глав в «Герое нашего времени» нет; есть только намек на то, что «болезнь», сказавшаяся у Печорина в эпизоде с Бэлой, распространена среди молодёжи, причём вопрос об этом в самой наивной форме поставлен Максимом Максимычем: «Что за диво!
Скажите-ка, пожалуйста, — продолжал штабс-капитан, обращаясь ко мне, — вы вот, кажется, бывали в столице, и недавно: неужто тамошняя молодежь вся такова? В ответе автора, признающего, что «много есть людей, говорящих то же самое» у Мюссе — «так как многие… страдают тем же недугом» , есть замечательные слова, как будто адресованные прямо автору «Исповеди» и его слишком рисующемуся своим разочарованием герою: «…нынче те, которые больше всех и в самом деле скучают, стараются скрыть это несчастие, как порок».
И затем — гениальная по лаконизму историко-литературная справка: «А все, чай, французы ввели моду скучать? В переводе на язык литературы это должно звучать так: « — Эту моду ввёл Мюссе? В помощь недогадливому читателю дан комментарий: «Я невольно вспомнил об одной московской барыне, которая утверждала, что Байрон был больше ничего, как пьяница». Печорин — не из тех, кто «донашивает» свою скуку как моду или кокетничает ею; об этом ясно сказано в предисловии к «Журналу»: «Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки».
Полемикой с Мюссе и с «французами» вопрос, конечно, не исчерпывается: имя Байрона ведёт не только и даже не столько в Англию, сколько в Россию. Недаром московская барыня позволила себе выражаться о нем так, как будто он?
Эта русская «хандра» была уже во всей своей неприглядности показана в «Евгении Онегине», и Пушкин недаром старательно отделил себя от своего героя: «Чтобы насмешливый читатель Или какой-нибудь издатель Замысловатой клеветы, Сличая здесь мои черты, Не повторял потом безбожно, Что намарал я свой портрет, Как Байрон, гордости поэт». Декабристы Рылеев, Бестужев , даже Веневитинов, были недовольны «Евгением Онегиным»: они видели в этом романе отход не только от «байронизма», но и от декабризма — от веры в героику, в силу убеждений, в дворянскую интеллигенцию.
Дальнейший путь Пушкина — его уход в мир «маленьких людей» «Повести Белкина» , снижение героической и «демонической» темы до уровня немца Германна в «Пиковой даме» то есть почти до её пародирования — всё это должно было вызвать со стороны декабристских кругов и среди хранившей декабристские традиции молодёжи противодействие и полемику.
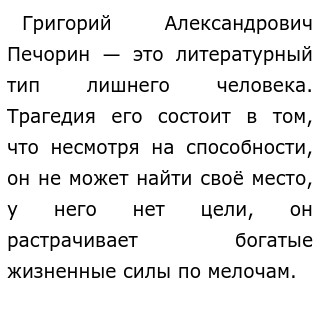
Лермонтовский Арбенин противостоит Онегину и ещё в большей степени — Германну; Печорин задуман как прямое возражение против Онегина — как своего рода апология или реабилитация «современного человека» [71] , страдающего не от душевной пустоты, не от своего «характера», а от невозможности найти действительно применение своим могучим силам, своим бурным страстям.
Но дальше оказывается, что в лице Печорина, в его «фаталистической игре, которою кончается роман», «замаскирован» не только Демон, но и «люди иной титанической эпохи , готовые играть жизнию при всяком, удобном и неудобном случае» [73].
Что это за «люди титанической эпохи»? Конечно, декабристы, «герои начала века». Яснее Ап. Григорьев не мог тогда сказать; он только прибавил: «Вот этими-то своими сторонами Печорин не только был героем своего времени, но едва ли не один из наших органических титанов героического». Литературоведы давно высчитали как по данным «Княгини Лиговской», так и по «Герою нашего времени» , что Печорин родился около года [74] , значит, во время декабрьского восстания ему было полных 17 лет — возраст вполне достаточный для того, чтобы мысленно отозваться на это событие, а впоследствии так или иначе, словом или делом, проявить своё отношение к нему.
Как видно по вариантам к «Княжне Мери», Лермонтов искал способа как-нибудь намекнуть читателям на то, что появление Печорина на Кавказе было политической ссылкой. Первая запись «Журнала», где описываются старания Грушницкого иметь вид «разжалованного», кончалась иначе, чем в печати; после слов «И как, в самом деле, смеет кавказский армеец наводить стеклышко на московскую княжну! Ей, вероятно, расскажут страшную историю дуэли и особенно её причину, которая здесь некоторым известна, и тогда Однако оставить эти слова без разъяснений было невозможно — и Лермонтов вычеркнул весь кусок.
В следующей записи от 13 мая доктор Вернер говорит Печорину, что его имя известно княгине: «Кажется ваша история там в Петербурге наделала много шума!
Отметим, что слово «история» служило тогда нередко своего рода шифром: под ним подразумевалось именно политическое обвинение. Отметим, что слово «история» служило тогда нередко своего рода шифром: под ним подразумевалось именно политическое обвинение [75]. Дальше Вернер говорит: «Княгиня стала рассказывать о ваших похождениях» и т. Любопытная деталь есть в рукописном тексте «Максима Максимыча» — в том вычеркнутом финале, вместо которого появилось предисловие к «Журналу», автор говорит, что он переменил в записках Печорина только одно — «поставил Печорин вместо его настоящей фамилии, которая Было, значит, намерение намекнуть читателю на то, что автор записок — лицо достаточно популярное, и популярность эта должна была объясняться, конечно, не каким-нибудь светским скандалом или сплетней, а общественно-политической ролью [76].
В этой связи особое значение имеет и то, что друг Печерина, доктор Вернер — несомненный портрет пятигорского доктора Н. Майера, тесно связанного со ссыльными декабристами, с Н.
Огарёвым, Н. Сатиным, с самим Лермонтовым [77]. По цезурным причинам Лермонтов не мог сказать яснее о прошлом своего героя, о причинах его появления на Кавказе для х годов этот край получил почти такое же значение ссылочного района, как Сибирь , о его политических взглядах. Понимающим читателям было достаточно, кроме приведенных намёков, того, что сказано в предисловии к «Журналу»: «Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на Кавказе; в моих руках осталась ещё толстая тетрадь, где он рассказывает всю жизнь свою.
Когда-нибудь и она явится на суд света; но теперь я не смею взять на себя эту ответственность по многим важным причинам». Первая среди этих «важных причин» — конечно, цензурный запрет. Однако Лермонтов нашёл как нам думается ещё один, очень тонкий способ обойти цензуру. В конце своего «Журнала» Печорин вспоминает ночь перед дуэлью с Грушницким: «С час я ходил по комнате, потом сел и открыл роман Валтера Скотта, лежавший у меня на столе: то были «Шотландские пуритане».
Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга? Последней фразы в прижизненных изданиях романа нет — очевидно, по требованию духовной цензуры как и страницей выше в печати отсутствовали слова «на небесах не более постоянства, чем на земле».
Но о каких «отрадных минутах» идет речь? Только ли о тех, которые были порождены художественным «вымыслом»? Надо прежде всего сказать, что Лермонтов думал сначала положить на стол Печорину другой роман В. Скотта — «Приключения Нигеля» вернее — «Найджеля» , чрезвычайно популярный в России русский перевод вышел в году [78].
Якубович полагал причиной замены то обстоятельство, что в описании Найджеля есть деталь, сходная с описанием Печорина «в его голосе звучала грусть, даже когда он рассказывал что-нибудь весёлое, в его меланхолической улыбке был отпечаток несчастья» [79] ; мы думаем, что причина лежит гораздо глубже. Об этом «знаменитейшем» как говорит Якубович романе В. Главный герой романа — Генри Мортон, сын погибшего на эшафоте героя, — спасает вождя вигов, хотя сам к ним не принадлежит; за укрывательство республиканца он арестован, а затем создается положение, вынуждающее его принять участие в гражданской войне на стороне вигов.
Это странное и трудное положение составляет предмет размышлений и страданий Мортона, придавших ему гораздо большее психологическое содержание, чем это свойственно другим героям В. Автор сообщает, что обстоятельства сделали его сдержанным и замкнутым, так что никто, кроме самых близких друзей, не подозревал, как велики его способности и как твёрд его характер.
Он не примыкал ни к одной из партий, разделивших королевство на несколько лагерей, но считать это проявлением ограниченности или безразличия было бы неправильно: «Нейтралитет, которого он так упорно придерживался, коренился в побуждениях совсем иного порядка и, надо сказать, достойных всякой похвалы.
Он завязал знакомство с теми, кто подвергался гонениям за свои взгляды, и его оттолкнули нетерпимость и узость владевшего ими сектантского духа.
Впрочем, душу его ещё более возмущали тиранический и давящий всякую свободную мысль образ правления, неограниченный произвол, грубость и распущенность солдатни, бесконечные казни на эшафоте, побоища, учиняемые в открытом поле, размещения войск на постой и прочие утеснения, возлагаемые военными уставами и законами, благодаря которым жизнь свободных людей напоминала жизнь раба где-нибудь в Азии.
Осуждая и ту и другую стороны за разного рода крайности и вместе с тем тяготясь злом, помочь которому он не мог, и слыша вокруг себя то стоны угнетённых, то крики ликующих победителей, не вызывавшие в нем никакого сочувствия, Мортон давно уже покинул бы родную Шотландию, если бы его не удерживала привязанность к Эдит Белленден» [81].
В следующей главе Мортон излагает свою политическую позицию: «Я буду сопротивляться любой власти на свете, — говорит он, — которая тиранически попирает мои записанные в хартии права свободного человека; я не позволю, вопреки справедливости, бросить себя в тюрьму или вздёрнуть, быть может, на виселицу, если смогу спастись от этих людей хитростью или силой» [82].
Дело доходит до того, что даже лорд Эвендел, не принадлежащий к партии вигов, должен признаться: «С некоторого времени я начинаю думать, что наши политики и прелаты довели страну до крайнего раздражения, что всяческими насилиями они оттолкнули от правительства не только низшие классы, но и тех, кто, принадлежа к высшим слоям, свободен от сословных предрассудков и кого не связывают придворные интересы» [83]. Вот какие страницы вальтер-скоттовского романа могли увлечь Печорина и заставить его даже забыть о дуэли и возможной смерти; вот за что мог он так горячо благодарить автора!
Таким способом Лермонтов дал читателю некоторое представление о гражданских взглядах и настроениях Печорина, который сам говорит, что было ему, верно, назначение высокое: «Но я не угадал этого назначенья, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел твёрд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений».
Накануне дуэли, вызванной «пустыми страстями», Печорин читает политический роман о народном восстании против деспотической власти и «забывается», воображая себя этим Мортоном.
Так Лермонтов подтвердил догадливому читателю по формуле « sapienti sat » [84] , что у Печорина действительно было «высокое назначение» и что были ему знакомы другие «страсти» — те, о которых сказано в «Думе» «Надежды лучшие и голос благородный Неверием осмеянных страстей» и о которых спрашивает Читатель «Когда же… Мысль обретет язык простой и страсти голос благородный?
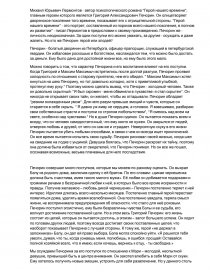
Кстати, слово «страсти» не сходит со страниц печоринского «Журнала», а значение этого слова было в то время и шире и глубже, чем в наше: под ним подразумевались не только личные, но и гражданские чувства, ведущие к борьбе за идеалы, к подвигам.
Карамзин утверждал в предисловии к «Истории государства российского»: «Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление» и т. Декабрист Никита Муравьев отвечал на это в году: «Вообще весьма трудно малому числу людей быть выше страстей народов, к коим принадлежат они сами, быть благоразумнее века и удерживать стремление целых обществ.
Слабы соображения наши противу естественного хода вещей… Насильственные средства и беззаконны и гибельны, ибо высшая политика и высшая нравственность — одно и то же.
К тому же существа, подверженные страстям, вправе ли гнать за оные? Страсти суть необходимая принадлежность человеческого рода и орудия промысла, не постижимого для ограниченного ума нашего. Не ими ли влекутся народы к цели всего человечества? Всё это лишний раз подтверждает связь поведения и судьбы Печорина с традициями декабризма — с проблемой личной героики в том трагическом осмыслении, которое было придано ей в х годах. Дело, однако, этим не исчерпывается — и именно потому, что речь идёт не о х, а о х годах.
Пользуясь выражением Никиты Муравьева, можно сказать, что для исторического понимания фигуры Печорина и всего романа надо выйти из круга политики в узком смысле и вступить в сферу «высшей политики» — в сферу нравственных и социальных идей. Григорьев заметил в Печорине не только его родство с «людьми титанической эпохи», но и ещё одну очень важную черту: «Положим или даже не положим, а скажем утвердительно, что нехорошо сочувствовать Печорину, такому, каким он является в романе Лермонтова, но из этого вовсе не следует, чтобы мы должны были «ротитися и клятися» в том, что мы никогда не сочувствовали натуре Печорина до той минуты, в которую является он в романе, т.
Что значат эти слова — или, вернее, эта терминология? Кто вспомнит, что Ап. Григорьев уже в начале х годов увлекался идеями утопических социалистов и в особенности некоторыми сторонами учения Фурье [88] , тот сразу увидит источник такой трактовки Печорина.
Выше в связи с «Княгиней Лиговской» уже говорилось об «экономо-политическом мечтателе» С. Раевском и о его влиянии на юного Лермонтова. Бродский пишет: «Заграничные брошюры, книги, газеты, издававшиеся фурьеристами, несмотря на запрет, доходили до Краевского. Нет также никакого сомнения, что в середине х годов Лермонтов уже знал об учении Фурье — и, в частности, о его «теории страстей», которая получила в России особенное распространение.
Михайлова находила, что уже в «Княгине Лиговской» наметилось «характерное для Лермонтова различение «подлинной природы» человека от извращений, вносимых в неё уродством общественного уклада жизни». Что касается «Героя нашего времени», то Михайлова видит в поведении Печорина власть объективных общественных условий жизни: «Эгоистическая жестокость также является извращением, которое внесено обществом в натуру Печорина» [90].
Анненков вспоминает, что когда он в году приехал из Франции в Петербург, то «далеко не покончил все расчёты с Парижем, а, напротив, встретил дома отражение многих сторон тогдашней интеллектуальной его жизни».
Он перечисляет книги, которыми зачитывались «целые фаланги русских людей, обрадованных возможностию выйти из абстрактного, отвлечённого мышления без реального содержания к такому же абстрактному мышлению, но с кажущимся реальным содержанием». Эти книги служили «предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода»?
Начало этому увлечению как видно и по письмам, и по воспоминаниям, и по журналам — как иностранным, так и русским восходит к началу х годов, когда особенной популярностью стал пользоваться сенсимонизм.
В году Герцен писал: «Каждая самобытная эпоха разрабатывает свою субстанцию в художественных произведениях, органически связанных с нею, ею одушевлённых, ею признанных», — и прибавил там же: «Великий художник не может быть несовременен. Одной посредственности предоставлено право независимости от духа времени» [92]. Было бы, конечно, очень странно и даже нелепо, если бы кто-нибудь стал утверждать, что «Герой нашего времени» написан под впечатлением страстей Фурье и представляет собою нечто вроде художественной иллюстрации к ней; однако было бы не менее странно, если бы противник взялся доказывать, что творчество Лермонтова и, в частности, «Герой нашего времени» никак не соотносится с социально-утопическими идеями тех лет и что Лермонтов их не знал или не придавал им никакого значения.
Ведь сами эти идеи рождены эпохой и составляют часть её исторической действительности, её «субстанции» — так естественно, что они в том или другом виде должны были отразиться в художественном произведении, ставящем коренные вопросы общественной и личной морали.
Россия х годов, с её закрепощенным народом и загнанной в ссылку интеллигенцией, была не менее, чем Франция, благодарной почвой для развития социально-утопических идей и для их распространения именно в художественной литературе, поскольку другие пути были для них закрыты [93]. В году арестованный по делу петрашевцев Н. Данилевский изложил учение Фурье в виде особой записки. Воспользуемся этим изложением, поскольку в нём мы имеем русский вариант этой системы и поскольку нам в данном случае нужна не столько её практическая, социально-политическая сторона «фаланстеры» , сколько морально-психологическая.
Человек рождён для счастья — таков исходный пункт рассуждения; самую важную роль в вопросе человеческого счастья играют междучеловеческие отношения. Формы общежития доселе всегда изменялись и по сущности своей могут изменяться ещё; природа же человека всегда оставалась постоянною и в своей сущности никак измениться не может.
Следовательно, дабы определить законы гармонического устройства междучеловеческих отношений, должно анализировать природу человека и по требованиям её устроить средину то есть среду , в которой она должна проявляться» [94]. Отсюда вывод: анализ должен быть направлен прежде и больше всего на «деятельные способности» человека. Под «деятельными способностями» человека разъясняет далее Н. Это единственный подарок, который судьба соизволила ему преподнести.
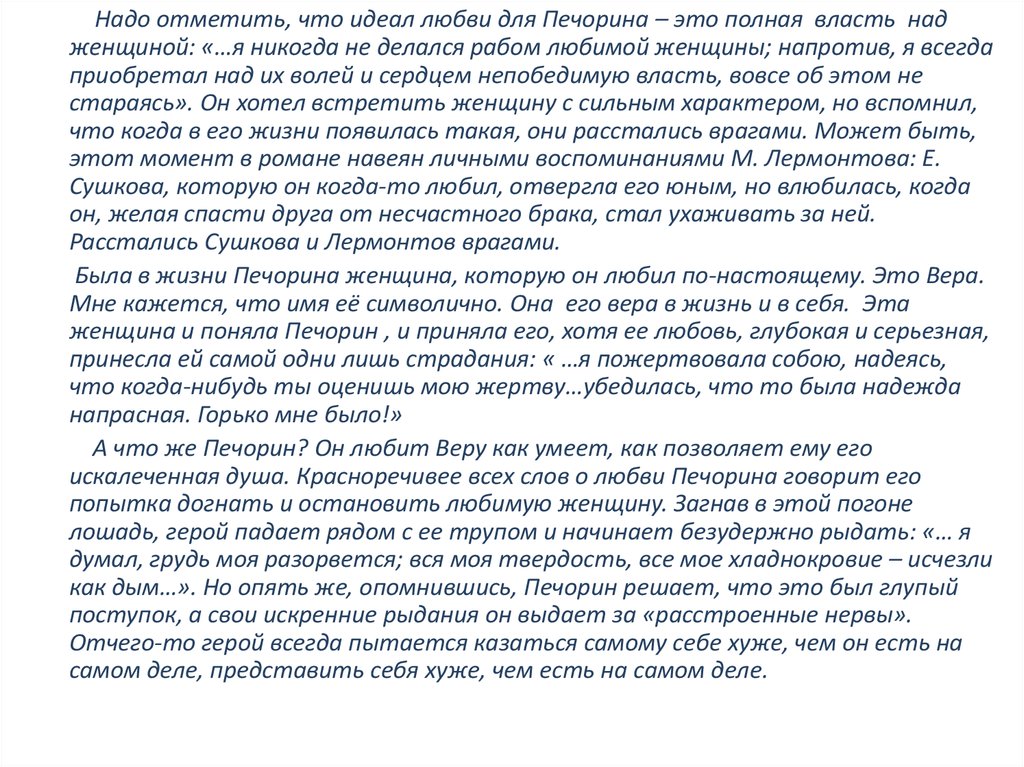
Ваш адрес email не будет опубликован. Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. Краткие содержания. Краткое содержание рассказа Максима Горького «Челкаш» и отзыв для читательского дневника. Краткое содержание рассказа Федора Достоевского «Кроткая». Анализ произведений. Анализ произведения Николая Некрасова «Крестьянские дети».
Анализ повести Николая Гоголя «Вий». Анализ рассказа Всеволода Гаршина «Красный цветок». Сочинения 0. Судьба Печорина в романе М. Метки: 9 класс Герой нашего времени краткое сочинение Михаил Лермонтов сочинение-рассуждение. Характеристика Штольца в романе «Обломов» И. Гончаров Всегда ли разумный поступок является нравственным? Образ Печорина в романе «Герой нашего времени» Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован.